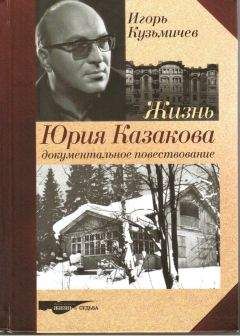Роднила Казакова с Паустовским приверженность к лирической прозе, которую он связывал с классической традицией, в частности с Чеховым, и которую вместе с тем рассматривал как порождение конкретной литературно-общественной ситуации конца 50 — начала 60-х годов.
Участвуя в дискуссии, развернувшейся на страницах «Литературной газеты» в 1967 — 1968 годах, Казаков писал о том, что в недавнем прошлом лирическую прозу сопровождали версты проработочных статей, что ей нужно было быть достаточно мужественной, чтобы отстоять самое себя, — и все-таки она выжила и процвела, и произошло это потому, что лирическая проза «пришла на смену потоку бесконфликтных, олеографических поделок и принесла в современную литературу достаточно сильную струю свежего воздуха». Сначала робко, а потом все смелее она ломала установившиеся каноны и в самой прозе, и в критике, требуя подтягиваться «до уровня нового писателя».
Заслуги и возможности лирической прозы стали тогда очевидны, и все же ей зачастую отводили роль падчерицы в литературном процессе, не принимая в расчет ее неоспоримых достижений. Возражая своим оппонентам, Казаков спрашивал в статье «Не довольно ли?»: «Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о высоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, — если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?» Спрашивал и давал понять, что названными качествами характеристика лирической прозы не исчерпывается, — не случайно споры о ней выходили обычно далеко за пределы ее жанрового своеобразия.
Размышления Казакова о лирической прозе тесно связаны с его размышлениями о рассказе. Немало тонких замечаний об особенностях русского рассказа, в отличие от западной новеллы, о поэтических ресурсах и преимуществах его отточенной формы содержится в казаковских разборах рассказов Г. Горышина, В. Солоухина, В. Лихоносова, Ф. Поленова, О. Кибитова.
В силу мощного, но сдерживаемого художественного темперамента, обладая напряженно чутким слухом и остро осязая предметную, вещную плоть мира, Казаков закономерно усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. В 1979 году в беседе «Единственно родное слово», рассуждая о своей долголетней привязанности к рассказу, он говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не могу уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». И при этом вроде бы сетовал: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который в силу своего жанра пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня... так, видно, и суждено умереть рассказчиком».
Романа Казаков не писал и, насколько известно, не замышлял, — так что, собственно, никакого фиаско он тут не терпел. Роман действительно не его форма. И все же своеобразный опыт работы над романом Казаков получил, в течение нескольких лет переводя с казахского эпопею А. Нурпеисова «Кровь и пот». Об этой работе он рассказал в предисловии к первой части эпопеи — «Сумерки» (1966).
Как подтверждают материалы сборника, Казаков обладал достаточно разносторонним литературным опытом и задачи перед собой ставил весьма ответственные, всегда и во всем стараясь оставаться писателем настоящим, таким, для которого цели литературы равнозначны историческим устремлениям человечества. Он отдавал себе ясный отчет в том, сколь извечно и коварно в мире зло, как изворотлив и опасен фашизм, как важно сегодня каждому человеку сопротивляться глобальной атомной угрозе, и обращался к мировым проблемам, страстно уповая на мужество писателя, на его правдивое, искреннее слово.
В интервью «Для чего литература и для чего я сам?» Казаков, тревожась, что Слово великих властителей дум, казалось бы, не подвинуло нравственность человечества вперед, объяснял, почему современный писатель все-таки писать обязан: «Да потому, что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что бы было со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота, — если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь и великой литературы? Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни. Хоть на день! — это ведь так много...»
Честные, выстраданные слова!
Сборник «Две ночи» — первая значительная посмертная публикация из литературного наследия Юрия Казакова (осуществленная Т. М. Судник и А. Ю. Казаковым). Архивные материалы соседствуют в сборнике с журнальными и газетными, они впервые сложены вместе и объединены в разделы по жанровому признаку. За пределами сборника, однако, остались еще путевые дневники, сценарии, письма, их публикация — дело ближайшего будущего. Выпуск сборника, конечно, послужит стимулом к дальнейшей работе над архивом писателя, а материалы сборника, хочется надеяться, займут свое место в собрании сочинений Юрия Казакова — необходимость подготовки такого собрания, без сомнения, назрела.
И. Кузьмичев
Автобиографические заметки
Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои — бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я — первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом.
Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой. В 1942 году в школе, в одном со мной классе, учился музыкант. Одновременно он посещал и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость музыкой в значительной мере повлияла и на меня, а мои природные музыкальные данные позволили и мне в скором времени стать молодым музыкантом. Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда на контрабас, потому что контрабас вообще менее «технический» инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех.
Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях — о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию напечатанной в афише, в газете или в журнале.
Тяга к писательству все-таки пересилила, я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса, и по недостаточной литературной образованности — плохо. Все-таки, видимо, было нечто в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее, и в 1953 году я уже успел напечатать несколько небольших очерков в газете «Советский спорт» и в том же году был принят в Литературный институт...
15 декабря 1965
Господин редактор, благодарю вас...
Господин редактор,
благодарю Вас за намерение включить мою автобиографию в издание «Современные авторы». На анкету я не буду отвечать, потому что не понимаю английского и, кроме того, сведения о себе, которые я Вам сообщу, наверное, также будут и ответом на вопросы анкеты.
Я намерен говорить только о своей литературной деятельности, т. к. это и есть, в сущности, моя жизнь за последние десять лет.
В 1953 году я выкурил полпачки папирос на лестнице Литературного института, прежде чем осмелился зайти в учебную часть. Я тогда держал конкурс на поступление в институт. Конкурс был очень большой, примерно сто человек на одно место. Естественно, что я страшно волновался. Мимо меня все ходили вверх и вниз, и когда спускались, то редкие спускались счастливыми. Наконец и я взошел наверх, и мне сказали, что я принят. Так я стал студентом Литературного института. Тогда я написал два или три рассказа. Наверное, это Вам покажется странным, но первые рассказы, которые я написал, были рассказами об американской жизни. И вот с ними-то я и поступил в Литинститут. Тогда же мой руководитель, прочитав эти мои рассказы, навсегда отбил у меня охоту писать о том, чего я не знаю.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)